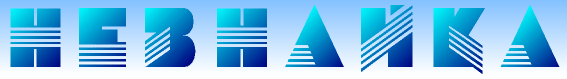
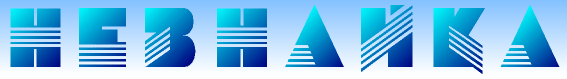
* * *Фразы мечут стихи, как сомы - икру,
ведь недаром и речка – всё та же речь:
пескари да лещи шебуршат вокруг,
а хотелось увидеть бы – рыбу-меч.Но сейчас у них нерест, у рыб и фраз,
потому-то и лезут на мой рожон.
Подцепляю их рифмой, и в строчку – раз!
Хорошо я сегодня вооружен.В этих слизистых точках таится то,
что окажется после такой ухой,
от которой желудок не сыт – зато
голова набекрень и язык сухой.Дважды в речь, как и в речку, вступить нельзя,
ибо в первый же раз - не взмахнешь веслом,
а утонешь, по дну башмаком скользя,
упырём зеленея средь рыб и слов...Фразы мечут стихи, как сомы - икру,
успевай лишь подставить зрачок и рот...
Только странная нынче вода вокруг –
то ли слезы соленые, то ли пот.2001
***
АнеТо, что нас и посмертно – вяжет посильней, чем канат любой;
то, что делает частью пряжи металлической, голубой,
из которой прядется свитер (ну, по-нашему говоря)
для Того, в чьей послушной свите – океаны, леса, моря,
Парки, звезды, сады, трущобы, сотни ангелов, Гелл и Ань;
то, что держит нас вместе, чтобы не рассыпалась эта ткань, -
паутинка прочней бетона и ресничка прочней моста
(груза выдержит – мегатонны, да людей - человек до ста);
Ариадне лихой на зависть, и Арахнам – навек укор:
эта нежная почек завязь, этой ветки смешной укол;
эфемерней любого газа, от нездешних пожаров - дым;
эту нить не увидеть глазом, не ощупать ее – слепым;
это – мысль: изо лба – и в темя, изо рта – и стрелой вперёд,
музыкального тона тема, сочетание трёх частот;
то крючком, то подъёмным краном, то сетями, а то кольцом,
то верёвочкой, то арканом, то приснившимся в ночь лицом;
сочетает осколки – клеем, кирпичи собирает – в дом,
серых капелек галерею на морозе смыкает льдом...
То, что в воздухе держит планер, то, что нам не даёт упасть
прямо в ада сухое пламя, прямо в Леты ущербной пасть,
то, что атомы держит в теле, то, что сердцу даёт завод –
чья-то мысль, пробиваясь еле, позывные твои зовёт...
Видно, это кому-то важно, как сказал бы один поэт –
разномастную эту пряжу, разноцветный тартана плед
(лицедеев на их котурнах, акробатов – жрецов Луны,
и пиратов в морях культуры, и верблюдов в морях слюны...) -
удержать, зацепить, запомнить, распустить – и собрать опять,
сохранить их ad unum omnes, забывая и пить, и спать...
Это – мысль: изо лба – и в темя, из надбровий – летя в висок,
побеждает пространство-время феерический марш-бросок!
Наших вяжет и вяжет ваших, перекручена и тонка -
это мысль нас с тобою вяжет, как веревочки ДНК...
Это мысль – от меня и прямо, прямоходом к тебе, пройдя
сквозь оконных квартетов раму, охраняющих от дождя;
пробежала мышиной нитью, паутинкой коснувшись век;
неумёха, растяпа, нытик, я в вязании – лучше всех!..Так что – помни же, помни, думай, чтобы я не ушел во мрак,
не распался на пыль, на сумму сослагательных «бы» и «как»,
чтобы я не растаял и не превратился в набор костей,
на стекле серебристый иней, фотографию для гостей,
- и держись, как рыбак за рыбу, за меня, рыбу-Китеж, за
чудо-юдо морское, - ибо мне иначе никак нельзя...2001
Это – просто мой голос...«А что речи нужна позарез подоплека идей
И нешуточный повод - так это тебя обманули.»
С. ГандлевскийЭто - просто мой голос, какой он есть:
не от Бога – от горла, еще сырого,
от скудельного счастья – губами есть
тепловатые, свежие крошки слова;
от раскатанных губ, повторюсь, и от
двух наполненных газом шаров, баллонов;
от того что, кусая усталый рот,
так и хочется выкрикнуть: «valde bono!»Это – просто мой голос, какой он есть:
не столпа, так столба с проводами – выше,
фотография в вечности «три на шесть»
(правда, в скромном отделе «и с ними иже»);
это просто мой голос, пещерный глас,
вопиющий в пустыне, чернила пьющий -
не сопрано; не тенор, увы; не бас;
не имеющий вроде других преимуществ -это – просто мой голос, какой он есть:
нет, не логос Эллады, а вопль Ямато;
я пришел - не благую поведать весть,
а скорее благим и блаженным матом
заорать; зарекаться, и снова в речь -
по колено, по шею, шепча всё то же:
что у речи одна лишь задача – течь;
что фонетика с этикой – странно схожи...Это – просто мой голос, какой он есть,
в синеву улетая воздушным змеем,
не боится, что может сорваться, сесть
в лужу сладкой слюны и крахмала-клея;
это волчий, шакалий, собачий вой
на луну («ну пожалуйста, ближе, ближе!..»), -
потому что луна – это то, чего
не укусишь, не вылакаешь, не слижешь...Это – просто мой голос, какой он есть;
электричество речи в подвале носа,
это тренье стекла языка - об шерсть
безсозвездного нёба, на ногу босу,
в побелевшем хитоне, - как тот Сократ,
говорливый афинский базарный овод,
утверждавший в потоке своих токкат,
что для речи и вовсе не нужен повод...Это – просто мой голос, какой он есть,
собирает посылку чужому слуху;
вот такая игра в перемену мест
элементов речи, воздушных духов;
это – просто мой голос, какой он есть
(а других мне не надо, и дьявол с ними!...)
из возможных звуков (числа им несть)
составляет себе на секунду – имя.2001
* * *Между мной и тобой легли
двадцать тысяч цветовых лет -
измеряй их хоть в красных ли
или в сине-голубых лье.У тебя – заалел восток,
апельсин в небесах повис;
у меня же – ночной восторг,
фиолетовый аметист.Может, стоит насквозь пройти
эту радугу, арку, лук,
чтобы встретить на полпути
бесконечный зеленый луг:запах яблочного тепла,
яшма яблоневых колонн...
Ты прошепчешь: гора Пэнлай.
Я подумаю: Авалон.2001
О том, как тяжело и как легко - жить
Зонтика мокрого запах, капля дождя на губе.
Облако синею лапой тянется ближе к тебе,
когти ветвей размочалив, лаком непрочным покрыв...
Разве тебя опечалил этот небесный порыв?Облако, знаешь, бессильно перед тяжелой землёй.
(С этой ревнивою глиной вряд ли пророком-Ильёй
станешь, взлетев горделиво над саваофами туч,
как над подковой залива – гвоздик начищенный, луч...)Это – закон тяготенья и прорастанья корней:
горизонтальные тени гирями тянут нас к ней...
То, что Юпитеру можно, лошадь убьет и быка.
Этой напыщенной ложью нам обломали бока.Так что – неси эту ношу, взявшись за зонтика гуж;
шлепай подошвой калоши по отражениям луж,
профилям, серым зигзагам, облачной ваты кускам,
по отсыревшей бумаге, по поржавевшим пескам...Мокрое таинство парка. Переплетенья ветвей.
Этот окурок – от Марка, эта синичка – Матвей,
лужица эта – не ванна, а Иордана река;
кошка глядит Иоанном, статуя с луком – Лука...Вряд ли пристало нам плакать, вряд ли смеяться пора...
Зонтика мокрого запах... Неба чумная гора...
Облако; траурный зонтик; кем-то разбитый стакан...
На перьевом горизонте - солнца потухший вулкан!2001
* * *
И в сердце растрава,
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра?
Поль Верлен, пер. Б.Пастернака...Не то что бы скучно и прустно и некому руку,
а просто на кухне январь занят резкою лука,
из банки на крышу мою высыпает горошек,
картошечку варит в кастрюле блестящей, хорошей,
заполнив квартиру белесым, запыханным паром;
а рядом – яичек овалы, куриная пара...
Январь понимает: салаты готовят ab ovo;
он только родился, но всё же он опытный повар...
(Не слёзы, не слёзы, ну я ж говорю вам – не слёзы:
с огурчиков влага солёная капает оземь!..)
Затем он смешает всё вместе, как будто на вече;
откуда-то вынырнет чертом хромающий вечер,
но кинется вон, по шоссе ударяя протезом,
когда из фонарных огней нацедят майонеза...Не то что бы скучно и устно и дальше по тексту,
но я в января дрожжевом и пузыристом тесте
себя ощущаю изюмом, засушенным с лета:
и кучно, и душно, и хочется белого света
(чтоб солнце вертелось пластинкой оранжевой сольной),
а не вопросительно согнутой лампы настольной...
Хандра – не от сердца, и не от голодного паха –
от глаза и уха: им скучно сидеть черепахой
под дном одеяла, во тьме соображая поэму,
закутанным страусом-трусом – а может, и эму...Не то пересолен, не то, так сказать, перегрустен
салат и пирог января... Вспоминаю о бюсте
и прочих знакомых и милых деталях ландшафта –
о родинке, кстати. О Господи, что же ты, ах ты...
По ней тосковать – позабытая напрочь морока.
(Прости за цитату. Я зелен, как знамя пророка,
и мне - позволительно). Видишь ли, это не похоть –
я просто сижу здесь, и мне офигительно плохо.
А родинка с бюстом – так это во имя традиций:
их так воспевали, и мне отставать не годится.
У речи есть тоже – фигуры; на самом же деле
есть речь – у фигуры, хотя бы и слышная еле,
но родинка – знак пунктуации, точка молчанья,
последняя капля в уже переполненном чане...Ну ладно. Признаюсь, не я заварил эту кашу;
топор или ропот в ней были, теперь уж не важно...
Сижу в холодеющем доме, мечтая о даме,
не знающей жалости; боль заливает дождями,
и сыплется соль из солонки обидчивым градом...
Не надо, прошу, отпусти же. Не надо, не надо...
И ушно, и устно, и лобно, и в руку, и в ногу...
Не надо, прошу, отпусти. Отпусти, ради Бога...2002
Образы в темнотеMama, take this badge from me,
I can’t use it anymore…
Bob Dylan1
То ли празднуют молнии Новый год,
то ли выбили пробки, играясь, джины –
но глазницам напрягшимся больно от
темноты (темнее лодыжек Джима)...
В темноте вспоминаешь, что всякий (слон,
королева и пешка) – смотри Хайяма:
«запираются на ночь смотреть свой сон
в деревянного ящика раму (яму)».2
Это дождь, заблудившийся в трех соснах,
растекается мысью по жизни древу,
в метроном превращается в страшных снах
и брюхатит в башне высокой - деву;
пластелин для щекастой семьи ветров,
из погоды вьющих подобье пагод;
это - море, в котором велик улов
ледяных, прозрачных слезинок-ягод…3
Ну, а мне-то что делать, небесных Сен
вислоухой собаке и пятой спице?..
Этот холод бетонных бессонных стен
мне сугробами нынче опять приснится…
Не раздевшись, залезу - почти омар -
в одеяла панцирь, на дно, на нары…
Прилетел бы, что ли, светляк, комар,
хоботком вцепившийся в свой фонарик…4
Темнота превращает страницу в
замолчавший на зиму пчелиный улей –
ни укола, ни мёда от них, увы,
не получим, поскольку они – уснули...
Телефонные кнопки – соски груди
необъятной, собачьей; и центр ли, край ли –
неизвестно; не тыкайся в них, уйди -
как щенок, не владеющий феней Брайля...5
Темнота выделяет особый сок:
получается саго (а может, сага?)
из обычных предметов... И, взяв кусок
отсыревшего пороха, бум-бумаги,
наугад составляешь из слов – пюре,
загоняешь в газетный подвал кроссворда,
забывая о том, что они скорей
не клубок ариаднин, а - шнур бикфордов...6
Я пишу, как махал топором берсерк,
огнедышащий воин с борта драккара;
как скребли Колобка изо всех сусек;
как телята мычали, идя с Макаром;
как куриною лапой – по стылым щам;
как по крыше – смолой и густой олифой;
как по горке затылка - дают «леща»;
как по чаю - душистою водят липой...7
Я пишу эти строки, прикрыв глаза
и вслепую фехтуя с бумажным тигром;
я почти уже даже вошел в азарт,
забавляясь с невидимым оку тиглем,
переплавив в чернила – пустой живот,
темноту тараканью, щенячий холод,
немоту всех приборов, тоску – и вот
этот русско-арабско-еврейский город;8
переплавив орала ночного крик -
на пластмассу дешевых, простых, скрипучих,
шестигранных и с чёрт знает чем внутри,
неудобных для пальцев - вот этих ручек...
Я боксирую с кем-то средь ночи (пусть
не Иаков, не Кассиус Клей, не Рокки),
вместо крови плевков из разбитых уст
выводя эти тёмные сгустки-строки...9
Так и пишем, и пишем, впотьмах, ведя
по невидимой ткани скрипящий грифель...
(Эти буквы, словечки, стихи - еда
и бумажному червю, и стерве-грифу,
и воде, у которой наполнен рот,
и огню, у которого дуры-губы,
и земле (у которой – своих забот),
и надувшимся медным голодным трубам…)10
Так и пишем - «мыслете» и «еры»: «мы».
Так и пишем себя же – сплошным курсивом,
по нехоженым тропам своей зимы,
изумительно белой, такой красивой;
оставляя цепочку следов, как вор,
у вороны укравший огрызок сыра,
оскверняя невинный досель ковёр
чередою черных чернильных дырок;11
это «О» открывает прокрустов грот;
запятые-вороны на ветке сели...
(Кто под знаком Вопроса родился, тот
видит знаки вопроса – в обычной ели,
восклицательный знак же – в твоих ушах,
осмотрительный заяц, ходок зубастый -
в ослепительных пятках твоя душа...
Ну и хватит о зайцах, довольно, баста!..)12
Так и пишем – про зайцев ли, про волков,
чередуя ли рифмы по зову пола,
превращая пространство листа – в альков,
где дуэт переходит в двойное соло...
Так и пишется волчий билет судьбы –
под сурдинку, вслепую, почти наощупь:
белизна заключает, по сути, «бы»,
а чернила – «сбылОсь» - и чего уж проще...13
Так и пишем – себя же, себя самих,
набивая не руку – характер, почерк;
эти буквы – ночные, и глазом их
не увидеть – а только посредством почек,
через печень, нащупав на стенах – лбом,
языком же – на нёбе, зубами – в дёснах:
это «Л» ли летает по клетке львом?
это «Р» ли струится во травах росных?..14
...То ли падают руны во тьму руна,
заполняя волнистый, косой каракуль;
то ли, звездное лоно затмив, луна
усмехается криво, что твой оракул –
перечесть это вряд ли сумеешь сам,
отличить не сумеешь «азА» от «ятя»...
Так считай же овечек, к веселым снам
попадая в стальные клише объятий...15
Это то, что увидеть дано – утрУ,
розоватому солнцу, росе рассвета;
это то, что случится, когда умру,
попаду в паутинные сети Сета, -
но воскресну, быть может, в зрачке чужом -
заключенный в анапест чудной Озирис, -
и завьюсь переросшим себя ужом,
на нездешнее небо с восторгом зырясь.2001
Летние медитации:
(1) Автопортрет летом
«До ночи бы добраться как-то,
доковылять, дожить вполсилы...»
Лицо – облитый солнцем кактус,
ручьи просоленной текилы;глаза – как рыбы в унитазе,
пираньи, ждущие добычи -
доступной одному лишь глазу
да «Кодаку» цветастой дичи;а руки – тонкие, как змеи,
покрытые шрамным узором, -
в клубок сплетаются, несмело
друг к другу обращают взоры,целуются; и, две колонны
заброшенного в джунглях храма,
ноги две, старых два питона,
на змей поглядывают странно...А в храме спит наверно – кобра,
и прячет яйца от мангустов...
(Замнем-ка лучше этот образ,
щадя читательницы чувства.)...Астрономически, я – атом.
Гастрономически, я – блюдо,
кусочек, что, наверно, лаком -
нежнейшие четыре пуда.Сперва чуть-чуть поджарен зноем,
в своем соку тушусь лениво.
Я – ассорти, рагу мясное.
Меня едят с холодным пивом.«Дожить бы все-таки до ночи...
Перетерпеть, закончить лето...»
Зимой, я полагаю, очень
забавно вспоминать об этом...2001
(2) Энтомологическое
Энтомологии - ясны
гримасы наши, наши лица...
Взлетает бабочка ресниц,
и - вновь на васильки садится;она умеет видеть сны,
в которых я себя - не вижу;
мои объятья ей - тесны,
но кто подходит ей – не вы же!Ее пыльца – заморский дар,
продукт совсем другого леса.
Куда же ты летишь, куда?..
А впрочем, мне не интересно....Две темных гусеницы губ
прикладываются к чашке чая;
они клянут свою судьбу
и – бабочками стать мечтают...;и, подражая ей во всём
и макияж неся блестящий,
они цитируют Басё
гораздо Колмакова чаще....А вот и я – ревнивый мавр,
в зрачков подводном лабиринте
жукообразный Мнимо-тавр,
бык божий (тапком хоть не киньте!).Но – хватит. Лучше пей свой чай,
Ли Бо читай благоговейно, -
не вороши, не разрушай
нелепых мыслей муравейник.2001
(4) Летняя медитация о дожде
...Не Клавдий ли некий моря белены
в ушную, подлец, заливает нам полость?
Олимпа ли царь, по навету жены,
на брата повысил раскатистый голос?Трезубец ли ржавый пробил облака,
рукой Посейдона разгневанной брошен?
Ответил ли Зевс, разряжая АК
в разверстую пасть Посейдоновой рожи?Цепные – собаки ли, рыбы - с небес
сорвавшись, прохожим вцепляются в горло?
Не Бог ли принёс, напрягая протез,
для нового Ноя стамески и свёрла?А может, пупырчатый ангел, гибрид
Дали, аллигатора и аллегорий –
рыдая над нами, пускает иприт
у самого серого Мертвого моря...Змея ли, своим подавившись хвостом,
плюётся холодным желудочным соком?
...Поэт ли, склонившись над мокрым листом,
страдает, несчастный, афазией Брока?..2001
(7) Облака
Вот – перевернутый верблюд
с губой, раскатанною щедро;
вода – о, горе кораблю! -
в его полупрозрачных недрах...Он - затонул в морях небес,
погряз в лазоревой пучине,
но без работы, груза без,
на дне он счастлив беспричинно.Вот – контур лающего пса;
на что он лает – неизвестно,
но видно, ожидает сам
команды голоса : «На место!».А вот – ежиха. Рядом – муж.
То – символы семейной драмы:
ежихи муж – не еж, а уж, -
но больно уж хотелось замуж.Все ветер – сводник, брат и сват,
к тому ж – племянник Гименея.
Фонарь во много тысяч ватт
пред домом ветра пламенеет.Там сводит он небесный люд,
работу завершая браком:
верблюдицу нашел верблюд,
хозяина нашла собака...* * *
Перун, Даждьбог – скажите мне,
в чем тайный смысл фигурок этих?
- Но вдруг – темней, темней, темней,
и грома кашель - как ответит!Завьется капелек крупа,
и Афродита станет пеной,
и Вечность, бусами упав,
просыпется дождем мгновений.2001
(9) Предчувствие осени
...Бог раздаёт нам карты:
этому дал шестёрку,
этому дал десятку,
этому дал туза...
Я, хоть и не азартен,
жребий приму, поскольку
это – судьбы порядки,
ей отказать нельзя...Локи, а может, Брама
карты из пачки вынул,
выдал согласно касте
каждому свой билет...
Мне вот - досталась дама
лет двадцати плюс-минус...
Дама пиковой масти
и несерьёзных лет.С облака ли свалилась
(вот, мол, тебе на счастье)...
Просто сюрприз какой-то...
эдакий Юрьев день...
Всё это очень мило,
но не мешало б, кстати,
срочно заправить койку...
ну же, не стой, как пень!..Окна пролили слёзы.
Их обижает осень.
Вытащишь одеяло,
вспомнишь: вдвоём – теплей...
Что для кого-то – проза,
то поэтично очень,
раз уж хандра сбежала,
встретившись взглядом с Ней...Всё через пень-колоду...
Падают листья с неба...
Впрочем, спасибо, Боже,
всё хорошо весьма:
я же не умер вроде,
не привлекался, не был...
...Зиму прожить поможет,
ну, а потом – весна...2001
Элегия битлам в духе
Иосифа Александровича
Памяти Джорджа ХаррисонаТот, кто тогда назывался мной,
туго натянутою струной
был, и всегда-то играл одно:
«СОС, я тону, ухожу на дно!»
(Нота знакомая, хоть с тех пор
в самоспасении, как топор
острозаточенный, я рублю;
дно же и вовсе – почти люблю...)
Он не умел так, как я, плевать
в душу и в прочее; а кровать,
думал, есть место, где люди спят.
(Я изменился со лба до пят.)
Он, о котором не скажешь «я»,
думал, что Парка – да так, швея...
(Как же, пошире держи карман:
Парка хитрее, чем Сен-Лоран!)Помню, тогда я носил пиджак
темно-коричневый, на ножах
был с физкультурой (читай «физр?»),
с физикой – тоже. Наверно, зря.
Галстук – умеренно-грязно-ал.
Позже стал – черным; и я познал
прелесть науки вампирских школ:
что бы ни делал – получишь кол.Там с ноября по апрель – зима:
белопогонна, почти нема;
чревовещают зато ветра,
словно из мусорного ведра;
и, раскрывая мосты-уста,
снег заявляет, что он устал
падать и биться о тротуар –
хрупок и дорог его товар...
Холод и серость стирают глаз.
Там, надевая противогаз,
горы бегут на сырой восток
под Магомета лихой свисток.Там на сугробах мочой собак
выведен древний волшебный знак;
смерть-фигуристка на сером льду
тихо царапает: «Я иду...»;
а на заборе – от сих до сих –
черные буквы: AC/DC.
Там что ни скажешь, то - «Ё-моё!»;
что ни споёшь, а припев - «Ой, ё!..»;
каждая песня – всё тот же стон.
Не по «Биллборду» и «Роллинг стоун»
мы изучали, как надо петь –
слушая разных Серёг и Петь,
держащих цепко гитарный гриф,
словно добычу – стервятник-гриф...Там за стеною – Ален Делон
что-то не пьет; погоди – бульон?..
Мне же зато принесли – «битлов».
Я разучил: «ол ю нид из лов»,
и, заполняя в душе пробел,
выучил даже «Мишель, ма бель»...
О, как кружился пластинки круг
черным квадратом! «Смотри, без рук!..»
Кто-то из Польши привез «Зе Бест»...
Грохот соседей - «хозяин есть?»Это – царевны чужой моток,
это – свободы, весны глоток
вечером трудного дня, и вкус
меда в ушах, как пчелы укус...
Как мандарины на Новый год,
как опохмелка в стране, где от
трупа замерзшего синих век
и до Камчатки – мороз и снег...
Это – зазор в миллиметров в пять
между подошвой и почвой, пядь,
что поважнее семи во лбу
(черт, ну и рифмочка, ...!)Это – кусочек весны в зиме.
Я, за него уцепясь, сумел
выдержать школу – из адских зон
первую. Так что – спасибо, Джон
и остальные друзья-битлы.
Ад есть не только – щипцы, котлы,
но – несвобода, тюрьма, урок,
общество урок. Уж лучше – рок.
Не отличая «диез» от «ля»,
я и английский учил-то для
ваших наивных и детских строф:
чтобы понять «ол ю нид из лов».
Мертв рок-н-ролл? На его костях
спляшем-ка лучше, поднимем стяг
60-х, и глянь – воскрес:
роза уже обвивает крест!Я, как вы видите, выжил. Стал
гибче и мягче – не то что сталь
детских Лубянок: скорей, стекло.
Много вина по усам текло,
энная часть – попадала в рот.
Стал, как синоптик, который врёт
не для зарплаты, а просто так;
вместо «Во, бля!» восклицаю «Фак!»...
Не «городская», скорей – «багет»,
жизнь – продолжалась. Любовь к БГ,
«роллингам», прочим. Они, увы,
стали мне ближе, чем прежде – вы:
сладкий десерт, дорогой портвейн
не для усталых и взбухших вен;
виски не виски, скорей ликёр –
нам-то, в чьих жилах течет ихор!
Но оставались всегда – НЗ
записи ваши, с пометкой The
Beatles, и, смотря на меня со стен,
вы наблюдали за сотней сцен,
десять квартир поменяв со мной,
вас забиравших, как новый Ной -
ларов, пенатов, смешной уют
в дом приносящих: мол, здесь поют.Так не стреляйте же, Ринго и
все остальные. Идут свои,
зная: пароль состоит из слов
вечных как мир - «алл ю нид из лов».
И, презирая военный строй,
я – искалеченный рядовой
армии робких мужей и жен,
армии той, где сержанты – Джон,
Ринго, и Джордж, и прекрасный Пол, -
эту элегию плачем по
вам не закончу. Салют простой
будет уместнее. Впрочем, стой:
мы победили, запомни. “V”.
Спи же спокойно, пророк любви.2001
* * *
С зеркала вытри пыль,
вникни в свое лицо:
сколько его не мыль –
крашеное яйцоцвета нагих цыплят
с примесью табака;
брови – крутой шпагат,
не рассержусь пока;в трещинах скорлупа;
клюва танцуя от,
взгляд совершает па,
в зубы смотря и в рот.Мозга больной птенец,
серый, сырой белок,
заживо скрыт в стене,
намертво одинок.Стукнемся лоб об лоб,
словно на интерес...
Где-то открылся гроб.
Может, Христос воскрес.2001
Ржавчина...Так давно ничего не писал, что даже
трудно представить, что когда-то умел это делать...
- Будто статуя очнулась, вышла из Эрмитажа,
вернулась домой, где не была – лет девять;
смотрит на себя в зеркало, не узнает, плачет;
пытается побриться, да лезвие заржавело;
но в кошельке – двадцать копеек: значит,
жизнь продолжается; где-то передают Равеля...;
идет в гастроном: булка, кефир; ест стоя;
возвращается, напивается из-под крана;
ищет бумагу; отрывает кусок обоев,
шарахается от выскочивших тараканов,
находит огрызок карандаша со стажем,
выводит каракули, напрягаясь всем телом...
...Так давно ничего не писал, что даже
трудно представить, что когда-то умел это делать...2000
“The rest is silence…”
…Дальнейшее – молчанье. Коли так,
то – помолчим: закроем окна, уши,
замочный глаз и двери на чердак;
и телефон, очнувшись, не нарушит
покой приватный. Лампа в тридцать ватт
желтеет, словно лысина пророка.
В пыли – доска, на ней – случайный мат:
«зевок», оцепенение, морока…
Часы стоят, как поезд в тупике.
…Да, верно: о покойниках – ни слова.
Ведь все равно оратора любого
понятней огород на потолке,
пенициллинно-паутинный рай.
Рыбак-паук, вдруг плюнув на добычу,
навеки замер, обессилев вкрай,
у моря, потерявшего величье…
Итак, покой – от мыслей и от слов.
Принцесса – вся в преддверьи поцелуя –
от принца, от последнего холуя –
но ни один проснуться не готов...1995
La Belle Dame Sans Merci
Вереницею длинной, томной...
М. Цветаева1
Она появлялась из ниоткуда,
как бабочка в комнате, где закрыты
все окна, и бабочкам вход заказан...Ты скажешь, что это – удача, чудо,
и самое время сменять корыто
на собственный домик?.. Но, впрочем, казусбыл в том, что в моменты ее прихода
не рыбьего жира, а быть бы живу
хотелось от главной и серной боли.А ты говоришь – «написал бы оду!..»
Не странно ли, право, искать поживы,
катаясь по полу мячом на поле?..2
Не знаю, сквозь эти ли, те ли щели
она проходила сквозь холод стенный,
в метро ли зеркал прибывала споро?..Она появлялась в моей пещере,
и бархат и шелк оставляли тени,
сердились, за стулья цепляясь, шпоры...Она – в капюшоне, поскольку вида
и лика ее не стерпеть нормальным
зрачкам препинания, кратким точкам...(Малы они больно, зрачки – корыта
с нестиранным платьем, отнюдь не бальным...
А их расширение – бьет по почкам...)3
Так вот, появлялась в накидке, но из –
но из под нее выбивался локон,
и свет золотой темноту ошпарил,в ее сердцевине роясь и р?ясь
Юпитером-ливнем, пресветлым богом,
который по-гречески славно шпарил...И бледные пальцы (куда уж тоньше,
слоновая кость для нездешних шахмат)
касаясь волос, уходили в корни;и боль говорила: «исчезнем, он же
не наш, а ЕЁ», - говорила страху
- и страх за окном исчезал проворно.4
ОНА же смеялась: «А ты боялся,
что я не приду», - и шутливо щелкал
по носу холодный, морозный палец;кружилась квартира в квадрате вальса,
точней, треугольнике – бёдр, и шелка;
и с хохотом шпоры на пол упали...На ухо шептал я: «останься, то-то
с тобой хорошо и покойно, тихо,
зашторены окна, и нет соседей...»«Молчи, дурачок, невозможно, что ты,
молчи, - улыбалась, - разбудишь лихо,
отстань, - усмехалась, - от старой леди...»5
И я засыпал, а ОНА, прощаясь,
всегда говорила, что, мол, вернется,
придет непременно, коль будет нужно;она становилась совсем большая,
она уплывала без всяких лоций,
а я оставался в кровати-луже...Как весело, слушай, дружить с тобою,
прекрасная дева с холодным жалом,
которая миром бездонным правит –ни страха там нет, ни тем паче боли.
Любовь тебе ведома, но не жалость,
прекрасная дева, леди Мавет.2002
Сотворение
...Начнем же опять сначала,
с бельма на глазу листа...
Представим: Земле – так мало,
поверхность ее – пуста;представим клубок, планету,
огромный один ручей,
зрачок голубого цвета
в глазнице – не ясно, чьей;представим, что Духов стая,
над коими нет суда,
над морем летать устала,
мотаясь туда-сюда;а может, им стало – скучно:
вода, мол – куда не кинь
свой взгляд.
...И выдумал сушу
летающих Духов клин.Увлекшись (в порядке спора
вначале, потом – всерьез),
они сотворили – горы,
деревья , кусты, зверье.Один – сотворил собаку,
придумал другой – леса;
шутливой попыткой, браком –
коала, жираф, лиса....Один сотворил – малину,
другой сотворил – сурка,
а третий – кусочек глины
бездумно все мял в руках;когда же, спустя столетья,
на небе зажглась звезда –
друзьям улыбнулся третий
и тело себе создал.И, в тело вселившись это,
он жизнью зажил иной –
и понял, как жарко – летом,
как холодно – бр-р – зимой...Построил он дом с камином
и комнатами семью;
потом – все из той же глины -
слепил он себе – семью;придумал еду, одежду,
пастуший рожок, гобой;
и книги; и, прочих между –
читаемую тобой...2001
* * *
Ах, головы горение,
ручки-пера - дрожание!..
Это – стихо-творение:
хоть бы и подражание,
всё же ковёр – хоть траченный
молью, хоть пыльный донельзя,
воздухом всё ж – подхваченный;
хоть и летает – понизу,
всё же - полёт (замешанный
на облаках и копоти)
из пешеходов - к лешему!..
Пусть этот путь и хлопотен
(от напряженья – красные
уши, губа закушена) -
сколько же всяко-разного
в воздухе мной подслушано,
сколько же мной налётано,
сколько же дырок латано,
сколько казалось – вот оно,
вдрызг распадусь, на атомы,
маленькие молекулы,
крестики, черви, нолики, -
но обошлось без лекаря,
гробовщика тем более...Так что неси, ворсистый мой,
цвет потерявший начисто:
легкость, она воистину –
лучшее в мире качество!
Дактилем, да и ямбами
перекликайся с тучами,
и не пасуй пред ямами -
ибо во всяком случае
гибель есть плод усталости,
скепсиса и неверия
(«сколько еще осталось-то?»),
а не потери гелия;
встречи зрачка - и гравия,
страха, спины потения...
Ave – основа avia,
скука и грусть – падения!
...Слезы от ветра или же
чьим-то котом наплаканы?
Сам же Борей и вылижет
этот напиток лакомый
не языком, так «минусом»
ртутного злого градуса.
Глаз и не это – вынесет!
Ныне и присно - радуйся!
Верь, что кривая вывезет
хилого брата нашего;
мысль удержи на привязи,
и не о чем не спрашивай -
ибо о сроках-времени
лучше не знать заранее
вам, головы горение,
тёплой руки дрожание...2001
* * *как некий опавший вагнер
готический риттер рихард
как некий упавший ангел
лежу на кровати тихокак спасший ицхака агнец
на серой странице кляксой
забывший кто друг кто враг мне
стена где и где эль аксавполне равнодушен зная
слюны у меня довольно
о черная горечь злая
о темные духа штольнио кто бы раздвинул шторы
зажег купину бы люстры
о где тот кусто который
со дна поднимает шустроно нет никого и сумрак
на грудь наступив коленом
меня приобщает к сумме
трофеев своих и пленных2001
* * *
...Господи Боже, какой минор,
экая тема, мечта Шопена...
День расстилается до-ми-но –
цепью костяшек обыкновенных...Так отчего же такая грусть
заполонила туманом тело?
Так отчего же так тяжек груз:
дубу – корона, царю – омела?(Бог половин, четвертей, октав;
вечное эхо, восьмая нота;
на контрабасе ли том креста
римским смычком тебя вызвал кто-то?..)...Боже, так что ж это ты сыграл?
вальс для хамсина? собачью фугу?
детский этюд для стрельбы с бедра?
два ли дельфина зовут друг друга?Что за минор, слезодёр, иприт
в легкие рвётся, испортив вечер?
Что за соната вовсю звучит
напоминаньем, что я не вечен?..2001
Рождество
Нос превратив в свёклу, губы в сырой компот,
рыбой об лёд ударясь (метко, зато редко) –
слышишь себя, думая: кто ж это там ревёт?..
Бабка и дед тебя тащат тугой репкой...
Шарфик, ушанка, да
варежки не забудь.
Сопли, песок и кровь: экий компот солёный!
Плач продолжался не
более трех минут.
Бинт покраснел, а нос, видимо, стал зеленым...
Я, головастик; я, милый, смешной малёк,
даже не буква, нет – точка, тире, икринка, -
носом на этот лёд знаком вопроса лёг:
кто ж это там лежит на розоватом ринге?
Всё заживёт, и до
свадьбы срастется нос.
Свёкла, картошка: тут
разницы нет особой...
Но – прозвучала вдруг новая нота «но»:
выскочил я на свет скромной своей особой,
в хоре, орать горазд - свой различил я плач,
новый пискливый альт, странные раны-струны;
голос родился так, в горла закутан плащ;
ветер песком чертил руны на льду и дюны...
Вечер. Темно. Вокруг
мрачно лежал Ростов.
Из фонаря крупа сыпалась желтой манной...
Так я упал назад лет, надо думать, сто;
так я поднялся из
небытия тумана...
Голос – открылся глаз. Голос – открылся рот.
Лёгких меха во сне мне заменили жабры...
В горле прогрыз дыру неукротимый крот.
Так и несу с тех пор всякую абракадабру...
Так, да и только так – можно родиться, стать
из обезьяны, из
рыбки, малька, моллюска,
призрачной ноты «да», нотам другим под стать –
крошечной нотой «но» на беспокойном русском...
Падай, вставай, иди. Плача, оря, ревя
(красный младенец-гриб,
хоть и ревешь - белугой) –
ты получаешь шанс вдруг услыхать себя,
и звуковой кривой – прочь из немого круга...Прямоходящий – тот, кто, не боясь упасть,
в кровь разбивая нос, губы, колено, локоть, -
всё-таки восстаёт,
и раззевая пасть,
что-то своё орёт сквозь безразличный грохот...
То на карачках, то
на четвереньках; но
не замолчать уже, сделавшись чьим-то эхом...
Заговорив, ты взял, да и открыл окно.
И не закрыть его, кроме как с человеком.И, умирая, вновь
голос теряя свой
(легкие – в жабры, а
ноги – обратно в ласты), -
ты вспоминаешь тот
первый и детский вой,
и понимаешь, что
это и было - счастьем...2001
Макабр«И вновь сегодня вышел я сухим из озера депрессии, из моря - мертвее не бывает, коридора, в небытие ведущего... Плохим я оказался телом, Архимед: вода меня к себе не принимала. Ей показалось, видимо, что мало я накопил за эти (вставить) лет… Она меня отвергла: мол, вали, греши, и веселись, и всё, что хочешь; пиши – что подлиней, что покороче; пиши ещё – в себя, в шкафы, в столы...
И в этот раз, как в прошлые, я не решился разломать иглу, в которой вёревки ДНК неслышным хором жужжат хвалу таинственной стране, которой имя – я... «УА» - «АУ» - таков маршрут природного трамвая: младенец, как волчонок, подвывает, точнее, шакалёнок (не пойму, точней, не помню, так ли я кричал); а, умерев, в сгустившемся тумане кричишь «Ау!», а может быть – «Ом мане!», внезапно натыкаясь на причал... Об этом, впрочем, рано. Не отплыв в ладье за край доски, на «а-двенадцать», под полное смещенье декораций, под листопад с отчаявшихся ив, - нет, не поймаешь (в смысле – не поймёшь) ни смысл игры, ни стоимость фигуры... Играйся же пока - Экскалибуром. Как говорили в Киеве, «ото ж»... Вернемся к брани. Даже слово «смерть» на что-то как бы тихо намекает: она – растет, смердит и набухает, но – исподволь. Поэтому – не сметь к ней лезть со стетоскопом и «Невой»: всё кесарево – кесарю, а Богу... Охолонитесь, съешьте по «хотдогу», запейте пивом, смешанным с травой... Мы копим Смерть, как копят медяки – по крайней мере, если верить Рильке. И, видимо, пока моя копилка - полупуста; и это мне - с руки... От мрака нерожденья – к пустоте перерожденья, комканья конверта... От мрака – к марке. «Черный пенни» Смерти – и мы в дороге, посланные. Те, апостолы и ангелы – родня нам, перенесшим сотню пересылок, частицам некой непонятной силы, что служит Ночи под покровом Дня...»2001
* * *
День без тебя, так похожий на
мятый комок во рту.
...Ты не подруга мне, не жена,
что ж это я плету?Это – резина одна, без дна,
но с витамином С.
Мятная жвачка в начале дня,
мутный портвейн в конце.Что же мне делать? Тоска, оскал
очередной зари...
Я никогда не умел пускать
правильно пузыри...Мятая мята, прогорклый воск;
тянешь его – и вдруг
вытащишь, смотришь: как будто - мозг,
маленьких полон мук...Пачка – неделя. Еще одна
тянется вслед за ней...
А впереди – штабеля, стена
липких, тягучих дней...2001
* * *
...А тело твоё – полигон для моих фигур,
и конь ладони бредёт с живота на грудь;
копыта слегка утопают в сыром снегу,
на белую клетку держа лошадиный путь...Язык, как ладья, разутюжит твои версты,
залезет слоном в углы, как заправский крот;
а пешки пальцев - солдатски совсем просты,
и рвутся в дамки, и знают одно: «вперёд!»Когда же мой ферзь, разметав рокировки вал,
ворвётся в замок, прижав короля к стене –
прорвётся криком нежнейший лица овал,
и ты признаешь, что вновь проиграла мне...Пусть я и хитрее компьютерных схем «Дип блю» ,
финал всё тот же: объятий недвижный пат,
и вместо «сдаюсь» - под сурдинку звучит «люблю»...
Доска, фигуры и два шахматиста – спят.2002
Телефон-кошкаТелефон, как спящая кошка,
кошка белая в черных пятнах...
Мне и так уже, в общем, тошно.
Не буди эту кошку, ладно?..Кошка морду укрыла лапой,
и свисает завитый хвостик...
Ну не трогай её, не лапай!
Хочешь, лучше уедем в гости?Если Мурка проснётся эта –
то наверное, будет лучше
в темноту, на границу света
убежать, закрывая уши...А иначе – сидеть весь вечер
в коготках у неё добычей;
слушать, тяжесть взвалив на плечи,
как истошно она мурлычит...Сердце-мышка боится кошки,
из груди порываясь в пятки...
Мне и так уже, в общем, тошно.
...Не сыграть ли нам с кошкой – в прятки?..2001
ДемиургСозвездия замкнулись, и еще
луна светить как будто не устала...
Четыре ночи. Ляжешь, на плечо
натягивая туже одеяло,
в подушку окунаясь с головой,
соскальзывая в снов неразбериху –
они неотвратимы, как прибой,
о череп разбивающийся тихо...
Песок и море. Ритмов череда.
Дагерротипы? Нет, калейдоскопы,
зверушек подсознательных еда,
готовых и меня немедля слопать...Но в этом антарктическом аду –
зародыш ощущения. По коже,
по желтому пупырчатому льду
ОНО ползет, на гусениц похоже,
и обрастает мясом, и вином,
и лапками, и сморщенной улыбкой –
простой воображения бином,
слегка мохнатый и немного липкий...
Вползает в ухо, в мозг. Стучится в лоб.
Вползает в сон, в углу там застревая,
но помня: среди общества особ
придуманных – ОНА одна живая.Но даже ощущение – и то
продлиться бесконечно не сумеет;
оно предтеча только, не итог -
как Иоанн, плененный Саломеей;
оно преобразится - в мотылька,
и мысль закружит бабочкой-шарадой,
ажурна, невесома и легка,
и кроме слов ей – ничего не надо...
Садится на язык (на лепесток
заснувшего цветка), его щекочет;
сон – дёрнулся и лопнул, и издох;
луна ушла куда-то вместе с ночью...А мысль – летает, крыльями шуршит
и требует немедленно проснуться
от сонной и испуганной души,
не терпящей внезапных революций;
и требует не музыки, но слов,
простых, любых – покорней пластелина,
рабочих лошадей, рабов, ослов,
бетона, кирпичей, обычной глины;
не для столпов и не для пирамид –
но для посмертной маски этой мысли,
что нынче беззаботно так парит,
а миг спустя – как мертвая, обвиснет...И это пробужденье – насовсем.
Постель – окаменела, неживая;
часы давно уперлись в цифру «семь»,
радикулит как будто наживая...
А в голове – какой-то кавардак,
и словно в ней ломали, рвали, рыли,
и мебель переставлена не так;
вдобавок, этот трепет чьих-то крыльев
и странная музЫка... Ладно... Весь
источенный, садишься за компьютер...
(Явись ему опять кудрявый бес –
что бросил бы в него сегодня Лютер?!Иконку, что ли?..) Буквами стуча,
экран заполнишь тучами созвучий,
и вдруг – прозренье, формула, неча-
нечаянно нашел ты к мысли ключик!
И лягут звуки звеньями моста,
а чтобы напряжение не спало -
по рельсам рифм прокатится состав,
мужским и женским выверенным шпалам;
и он пройдет, усталостью дыша,
и сгинет в обмелевшей местной Летке...
На рельсах мысль останется лежать
напрасно покореженной монеткой.2002
* * *
...В белом саване листа
хороню сегодня стих.
Он с утра еще блистал,
а к полудню – лопнул, стих.Лопнул красным пузырём
не из горла – из горл?.
Слишком громко мы орём -
красота и умерла.За бутылочным стеклом
вдрызг прокисшей пустоты
остается только клон
недоступной нам мечты....На осколки наступив
и порезавшись слегка,
солнце варит нам супы
из лучей и коньяка -вот доступный нам витраж
и единственный собор;
остальное, видно – блажь,
остальное, видно - вздор.Белый саван, мертвый лист,
гроб коричневый – пенал...
Хитрый дьявол, рыжий лис
у гроба хвостом вилял.2001
* * *
...Ты дала моей жизни начальный вектор,
уводящий от славы и денег - в секту
неудачников, милых Луне: поэтов,
вслед за «альфой» упрямо твердящих «бета»;сумасшедших мечтателей и сновидцев,
королей (настоящих, а также «вице-»),
мудрецов безработных с царём-циррозом,
баб, скатившихся в насыпь с воза...Это – армия под руководством Ночи,
хоть солдаты ее умны не очень,
и воюют с собой, по вискам стреляя,
извергая из легких подобье лая.Нам не место у кухни, где делят кашу,
да и в космос летать – судьба не наша.
Пограничники, тени, ночные тати,
ни о чем не жалеем – с какой бы стати?...Ты послала меня по земному шару,
чтоб простора мне не казалось мало.
Так и бьюсь о борта, как об берег – Крузо,
но при этом не попадая в лузу...Я бы мог быть другим, но не стал, и в этом
виновато забытое нынче лето.
Я есть я – безо всяких «зато» и «либо»,
и за это - спасибо тебе, спасибо.2001
* * *
...Предвкушаю (заранее то есть ем,
в пустоту поплавком окунув язык) -
но не сделано тесто, не сварен крем...
Разведем руками и скажем «дык!».Мы, об стенку стуча головы мячом,
заработав мигрень и, частично, плешь, -
убедились, что то никудышний лом.
Лучше ляг на диван, отдохни, поешь.Это лень, и обидчивость вместе с ней,
виноваты, что сил у нас больше нет,
что когда-то писали мы Песнь песней,
а закончилось всё «суетой сует».Мы привыкли, губу раскатав, мечтать,
но мизинец, калачиком свившись, - спал.
Нас не примут ни в Штаты, ни даже в штат.
Мы не сможем СЕКАМ отличить от ПАЛ....А когда-то вставал в пять часов утра
(и не лень же ведь было - так нет, не лень)
чтобы, рифмою будущих злых утрат,
провожать мне твою недотрогу-тень...Помнишь, снежная пыль холодила лоб,
мы вели утомительный старый спор...
Я тогда, подскользнувшись, упал в сугроб.
И не вылез, по-моему, до сих пор...2001
Воспоминание: кухня
Белый хлеб, черный чай,
Пурпурное вино...
Б.Г....Хлебные крошки – как муравьи.
«Липтон» - почти оранжев.
«Как же мы жили – так, без любви –
всё это время, раньше?»Фосфорный штемпель блина луны,
звездною дробью – адрес.
«Был до тебя этот мир – уныл,
словно семита абрис,словно не черный, а - белый стих,
рифме и ритму чуждый...
Я на иврите писал – прости! -
то, что по-русски – нужно...»Желтая лампа и красный стул -
верен себе в деталях...
«Хочешь, звезду тебе принесу?
Только скажи – слетаю!»Капсула в космосе, и игла
в сене – кораблик кухни.
Мир поглотила могила-мгла,
и от обжорства – пухнет...Как же пейзаж мне такой знаком!
Что изменилось? – Малость.
Даже не вспомню нынче, о ком
эти стихи писались...2001
* * *
…Говорят, Фридрих Ницше был сильно влюблен
в Лу Саломе, странную барышню из России…
Была ли она блондинкой, с волосами, как лен,
или брюнеткой в джинсах – что там тогда носили?..
Говорят, он сделал ей предложение,
признаваясь смущенно: «Спинозу и даже Канта
променял бы разом на блеск движения
белых рук, поправляющих узел банта…
Философия, в общем, не стоит объятия,
передачи тепла, поцелуя во тьме вокзала, -
и пошла она к черту, к фатеру или к матери,
понимаешь, Лу?!» – Но она ему отказала.
Ну и правильно сделала. В плане «любви к судьбе»…
Да, Ницше, конечно, лох, ботаник и лапоть.
Но в чем-то он прав… Я все так же стремлюсь к тебе,
словно к солнцу. Остается одно – не плакать.1998
Бродскому
Ты был греком, с присущим им чувством меры,
тяготением к середине, серым,
а не белым и черным - цветам пейзажа,
настроения, чувства, шарфа, плюмажа...В винегрете Империи, как маслина,
ты катался, не будучи ей ни сыном,
ни племянником. В этом людском салате
(по рецепту, что Август прочел в Сенате)ты – чужой. Хоть и грек, но для римлян – варвар.
И не диво, что ты предпочел Энн-Арбор:
хоть и там человек одинок, но все же
на кровати своей, не на нарах, лежа.Ты старался быть сдержан в стихах. Да, сдержан.
Ты считал, что не памятник важен – стержень.
Даже с Временем можно играть на равных,
вопреки фехтованию стрелок плавных.Ты, наверно, влюблен был в завет Камброна,
что учил нас, примерно во время оно,
после шрамов, болезней, других отметин
даже смерти сметь ласково “Merde!” ответить.2001
* * *
Compadre, quiero morir
decentemente en mi cama.
De acero, si puede ser,
Con las s?banas de holanda.F. G. Lorca, “Romance son?mbulo”
...Муза моя, болезнь!..
На простынях из льна –
Странная прихоть лезть
В душу, когда больна…Обручем жара сжат
Любвеобильный лоб.
Пот, словно колос, сжат
Пальцев серпом.
Озноб.Но меж огнем и льдом -
В мире, где боли нет, -
Кошкой крадется в дом
Строчек напевный бред.И по обрывкам фраз,
Как по костям детей,
Шествует главный Ас
Скальдов, убийц, блядей.(Зубы его – Урал,
Губы – Евфрат и Нил;
Радугу он украл,
К шапочке прицепил…)И, вдохновенью чужд
И на расправу скор,
Следом могучий муж,
Молотобоец Тор.Один подправит слог,
Локи подкинет слов.
В ручке – чернильный сок,
В горле – звериный рев.Мир – как впервые, нов.
Взгляд – как впервые, свеж…
Точка.
…И вновь – в озноб,
Льда и огня промеж.Боги исчезли. Лист
Скомкан, исчеркан весь.
Врач говорит: «Артист…
Тридцать девять и шесть…»Уксус. Таблетки. Чай.
Можно закрыть глаза…
На голове врача –
Хитро сидит фазан.2000
Идиллия
Леше Шестаковскому
В нечаянной бухте Барахты
тропической южной зимой
кораблик причудами фрахта
окажется как-нибудь мой.Вода там, я знаю, прозрачна,
и дно, хоть стыдливо оно,
навстречу лучинкам горячим
откроет свое кимоно.У девушек длинные косы
на острове ласковом том;
небритые наши матросы
застынут с разинутым ртом...На шею повесят им бусы,
венками украсят им лоб,
и больше они не вернутся
в каюты просоленный гроб.И вождь, уважения полон,
устроит изысканный пир,
и, чтобы прекрасного пола
во славу спокойно я пил -дадут мне в кокосовой чаше
забористый лотоса сок
и медную местную Машу
на неограниченный срок...Тем временем даже кораблик
освоится полностью тут:
лианы, полипы, кораллы
надежно его оплетут.Далекие мрачные люди
страховку получат за нас.
...Не знаю, когда это будет,
но лучше бы – прямо сейчас.2001
* * *
Город в начале марта.
Вечера-негра морда.
Море играет в нарды,
гальку бросая гордо.Воздух: как будто пальцы,
липкие от пирожных.
Глазу – раздолье: пялься!
Сердцу – тоска: тревожно.Шлепают тихо ноги,
тело бредет лениво
(яду – в избытке, боги:
дайте-ка лучше - пива.)Нож – сквозь головку сыра,
я – через сладкий воздух:
рву паутину мира,
спящего моря возле.Воздух: тяжел и плотен.
Сушатся, в нем повиснув,
звуки, движенья плоти
и неподвижность мыслей;и натолкнуться можно
на поцелуй вчерашний –
липкий, немного влажный.
И отчего-то – тошно…На перепев сирены –
дружный ответ шакалов
(а «воронок» - сиренев,
словно во сне Шагала!).Вой наполняет город.
Верно, идет охота.
Кто-то уходит в горы,
прячется в скалах что-то.Это – луны улыбка:
кот – а скорее, заяц,
волк – ну а может, рыбка.
Скалится.
Исчезает…Город в начале марта.
Ночь принимает вахту.
Море играет в нарды.
Выиграло, Игорь.
Так-то.1999
Сонет об одиночестве
Перевод с луизитанскогоНочь вороным асфальтовым катком
проехалась по городу. В кровати
закатаны поэт и обыватель -
под одеялом, пледом ли, платком...Ночь отчеркнула время ноготком –
от сих до сих, игрушки, смирно в вате
покойтесь, отдыхая от объятий;
они и спят, не думая о том,как славно ей гулять наедине
с самой собой по высохшему вади,
горизонтальной, сплющенной стене;и в сонном, покоренном ленью граде
зачем же существуем мы - а не
незримой ли прогулки этой ради?2002
Колобок и Смерть
Не Игорь – скорее, угорь,
змея под личиной рыбы,
увертливый черный уголь
в подземной пещере, либоскорей Колобок, который
(рожденный, бесспорно, ползать)
не ищет дорожек торных,
не прибыли ищет, пользы, -а просто бежит, петляя,
бежит и зимой, и летом;
в апреле, в июне, в мае
свершается бегство это…Бегу молоком вскипевшим;
сквозь пальцы теку, как деньги;
и конных бегу, и пеших;
и шапок бегу, и Сеньки;проклятий бегу, объятий -
туманом, песком и дымом;
и всей королевской рати
меня не поднять на дыбу;бегу от совы, от волка,
от белки бегу с куницей;
от них убегу – а толку?
Пути все ведут – к лисице.Ведь сколько пути не виться,
и как за него не браться, -
в конце там сидит - лисица,
глотая ушастых братцев.Сидит за столом накрытым -
прибор на одну персону:
соль; перец; стакан; корыто,
разбитое зайцем с соней…И зайца, и соню съела,
а шляпником – закусила…
Такое у смерти – дело,
такая у смерти – сила,такой, понимаешь, угол
у всякого есть квадрата,
что, будь ты хоть самый угорь,
придешь в этот самый пятый.1999
* * *
Это – дождь. Это - ждёт, дожидается чёрствая почва,
червяки и лягушки, улитки и желуди; семя
сорняка и пшеницы мечтает расшириться сочно,
на поверхность пробившись разбухшими порами всеми;и грибы оставляют ночные и долгие споры;
и глотка ожидают, шатаясь от похоти, лозы...
Скоро ливень промчится, как празднично вымытый «скорый»,
оставляя на станциях бурно расцветшие розы.2001
* * *
Как поздно я понял, что запах и цвет
важнее цены, и престижа, и вида;
что всё, что ни есть, состоит из примет,
у Бога работая знаком и гидом...Как поздно я начал язык понимать
седой паутины и рыжей мастики;
как поздно я понял, что значит примат
материи, что-то бормочущей тихо...Как поздно – но всё-таки, всё же и я
сумел, замолчав, краем уха расслышать,
как кто-то, в молекуле каждой живя,
сентябрьским дождём барабанит по крыше...2001
Минор и мажор: пустота
(1)
Внутри такая пустота...
Не кислород внутри, не гелий –
всё выжгла ночи кислота.
И засыпаю еле-еле,и снится: в пантеон Тюссо
я принят, куколкой из воска –
мужчина, слон и пылесос,
зловещая детина Босха...Стою, одетый в домино,
о, как всё пусто-пусто-пусто -
портной попался ли дрянной,
таксидермист ли неискусный?..Такая пустота внутри,
такой незаполнимый космос...
Часы показывают три...
Луны поблёскивают космы...Я пылесос, я слон, я слон...
О, как бы мне хотелось, чтобы
стал прежним носом этот хобот,
закончился кошмарный сон...(2)
Не просто – легкие, и печень,
и перестук сердечных камер,
а – путь Коровий, Козий, Млечный,
а – космос, длящийся веками!Там правит ночь, там нет рассвета,
лишь восхитительно мерцают
планеты, солнца и кометы,
омытые недавним чаем.Как славно думать: в этом теле
не просто пустота и ужас –
миры в нём, плавно и бесцельно,
плывут по бесконечной луже...Я горд собой, я планетарий,
я – бесконечно интересен;
я – герметическая тара,
во мне есть нечто от Гермеса...Я – кошелёк своей Вселенной,
и места ей во мне – хватило.
Я – человек обыкновенный,
что движет солнца и светила!2001
Один
“Did he who made the Lamb make thee?”
W. Blake, “Tyger”«Где тот, на чьей ладони я живу,
Чью плоть топчу без устали и нагло?
Кто – великан ли инеистый, маг ли –
Окрасил нежно неба синеву?Кто дал траве ее зеленый цвет?
Кто поселил людей в Срединном Мире?
Кто крошками кормил ручных валькирий,
Забот других как будто больше нет?Кто создал радугу, согнул ее в дугу,
В глаза мои ее осколок вставил?»
- Ответы мы получим, но – в Вальгалле.
Пока что же об этом – ни гу-гу.2001
Пеан
...Эй, Дионис, виночёрт, виночерпий!
Нас, комаров, ты столетьями терпишь -
смирно лежи же, не хлопай в ладоши,
кровушки дай нам ещё, мой хороший!
Эй, бородатый, богатый, рогатый:
ты превращаешь поляны - в палаты,
ты разрушаешь мир-вытрезвитель:
«Все на свободу, пейте, резвитесь!»
Ты, на кого наши черти похожи –
легкий, прямой и насмешливый Боже,
смуглый, нечесаный, танцу подобный,
бившийся телом в горло и в лоб нам!
...Рвали тебя на куски и ногами
тщетно давили: ты – оригами,
феникс и финик, гроздь винограда -
звонко хохочешь, выйдя из ада!
Бог (променявший молитвы – на шутки),
мехом по коже, смехом в желудке,
эхом в ушах и членом восставшим
провозглашавший: радость - опавшим
в жирную землю, в сладкую почву:
почки и печень – в грозди и почки!
Весть Элевсина, слово Орфея
грекам, галатам, феям, евреям:
не пропадает нынче и крошки,
ныне и присно, люди и кошки,
зерна и косточки, песни, пеаны
вновь возродятся, чем-нибудь станут...
Гея и Зевс, Дионис, Афродита
вам обещают: вы - возродитесь,
снова проявитесь в солнечной яви,
праздновать это сегодня вы – вправе!...Кровью поивший нас, о, Дионис –
не уходи, обернись, оглянись!
Дома везде – среди пальм, средь берез –
смерть победивший - Бакхус-Христос.
Славя тебя, не боимся расплаты:
о, Дионис, на ветке Распятый!2001
Беседа с летучей мышью: конспект
Летучая мышь,
куда ты летишь?
От дерева к дереву,
выше всех крыш.
Сейчас треугольник
ты в ромб превратишь,
и замшей шурша -
ш-ш-ш-ш...Летучая мышь,
зачем ты пищишь,
зачем рассекаешь
вечернюю тишь?
Ты лобзиком пилишь,
мышиный малыш,
и думаешь – «туш»,
а выходит - «кадиш».Плакучая мышь,
на ветке висишь
тугим черносливом...
«Уставился, ишь,
сложусь-ка я
в метафизический шиш,
и ловко исчезну...»
...ш-ш-ш-ш...2001
Красс
Люди вообще, как племя, - странные существа,
яблони нерасцветшей падающая листва,
сделанная из такого хрупкого вещества...Лучники застилают маревом горизонт,
тихо плывут парфяне, каждый, как Купидон.
Поздно забил тревогу сонный центурион.В белом шатре походном спит, разметавшись, Красс,
спит на пороге смерти, не размыкая глаз,
зековским сном убойным, спрятав лицо в матрас.Видимо, видит море, гостеприимных жен,
флейты напев пунктиром, шумный симпозион,
чаш и монет холодных и полновесных звон...Капли текут по шее, в складках – густеет пот,
некий аналог термов пенных, шипучих вод...
Мухи (для них ты – мертвый) лезут в обрюзгший рот.Не просыпайся, ибо не на что там смотреть.
Твой легион потрепан, чудом осталась треть.
Крепко орел попался в кошек восточных сеть.Сердце стучит, как в кегли пущенное ядро,
бьется тревожной рыбкой о толстяка ребро.
В глотке першит, как будто залито серебро.Жизни всего осталось около часа, Марк.
Спи, наслаждайся, тело (атом, непрочный кварк),
снами про виллу в Байях, пиний тенистый парк.Та голова, которой ты улыбался, ел,
жадно к грудям тянулся, чтоб отдохнуть от дел, -
срублена будет скоро, бережно, словно ель,и, на потеху детям, будет смотреть на мир
парой запавших, блеклых, полузакрытых дыр.
Быстро на солнце тает коллекционный жир....Конница затопляет лагерь со всех сторон.
Кто же там скачет первым, если не Купидон,
новой игрой жестокой полностью увлечен?..Что же ты предал римлян, юный крылатый бог?
Что - пред парфян телами ты устоять не смог –
смуглыми их руками, стройностью голых ног?Иль, ремесло убийства вдруг для себя открыв, -
с дрожью узнал в нем тот же, что и в любви, порыв
слиться с врагом в экстазе, шею ему сдавив?Стрелы малюют небо в огненные тона.
Музыка близкой смерти, ангелов письмена.
...Мальчик, твои забавы стали странны весьма.1996-2001
* * *
Улитка, натыкаясь на забор,
Соображает, рожками раскинув,
Что в нем – Судьба. И, повернувшись чинно,
Ползет обратно, зная: ей «слабо»,Да недосуг… К тому ж улитка – грек
И, понимая бесполезность бунта,
Старается держаться ближе к грунту.
С богами ли, с судьбою спорить – грех…Она умна. Ей хорошо. А я,
Не научившись ничему на шишках,
Люблю – заборы, мельницы и книжки,
И – к счастью? к сожалению? – Тебя.1997
* * *
«- Зачем ты стоишь на игле?.. на игле?»
«- Малыш, разобьешься! а ну-ка, слезай!»
«- Слезай, самозванец! давай, не наглей!»
«- Смотрите, он плачет! смотрите, слеза!»«- Не слезу с иглы я... с иглы я... с иглы...
Она заменила хребет мне спинной.
Я буду смотреть, как плывут корабли,
и тени своей любоваться длиной...»«- На цыпочках ты далеко не уйдёшь.»
«- На цыпочках так неудобно стоять...»
«- И где же наш мэр, или как его - дож?..»
«- Зачем наши мальчики пьют этот яд?..»«- Не яд, а напиток из тёплых лучей,
не яд, а из бриза морского наряд,
не яд, а ... А впрочем – зачем вам, зачем?
Ведь вы не поймёте. Но только не яд...»«- Зовите пожарных! Держите брезент!»
«- Ну, кто тут мужчина? Снимите его!»
«- Была не была! А, долезу в момент!..
Да что за оказия! Тут – никого...»(«- А нас – легионы на этой игле.
Мы бесы, и ангелы, и флюгера...
Мы по уши в этой забавной игре,
хотя это вовсе для нас не игра...Дебюта не помним, а эндшпиля нет -
один бесконечный, глухой миттельшпиль.
Над нами плывут сочетанья планет,
но дом наш – вот этот заржавленный шпиль.Стегают нас розгами пьяных ветров,
и солнце впивается в сочную плоть...
Мы этого города крыша и кров.
Нас даже Иакову не побороть.Иди без стеснения к нам, новичок.
Ты знал, где искать нас – смотри, не спасуй...
Подставь же истёртое лямкой плечо
под тяжесть невидимых зрению струй.»)2001
Мифология
Забыв про снег и про сирень,
живу в ничейной полосе
среди циклопов и сирен
и прочих прелестей шоссе...Машинный беглый волапюк,
язык отрыжек и икот...
А во дворе – растёт лопух,
и одуванчики, и кот...Ну, с лопухом-то я наврал,
зато замечен был – мангуст...
Вот так сидишь, и вдруг – аврал:
с ума сойти - такая грусть...До мифологии ли тут?
Какая Греция, и Рим?
Они - закончились. C’est tout.
«А мы – ничем мы не блестим...»Зачем Сафо? Какой Катулл?
Гомер здесь больше не живёт.
Что видишь – стул? Пиши про стул.
Живот болит? Пиши: «живот».И море, вроде, под рукой
(точней, под глазом, как синяк) -
но и оно машин рекой
превращено в дорожный знак...Но всё же, всё же... Даже я -
я, горожанин и слепец,
я, жвачку улицы жуя,
о море вспомнил наконец...Эллада – не в камнях, и не
там, где - могилы, прах и хлам,
- а в этом пенистом вине,
шампанском с солью пополам...Я врос корнями в твой песок,
твой средиземный дикий пляж,
я белкой прыгнул в колесо,
в твою аттическую блажь,в бинты и марлю облаков
облёк экзему ранних ран;
освобожденный от оков,
гляжу, как поднимает кранпеннорожденные мосты,
и козьи тропы, и дома –
почти классически просты,
изящны, как и ты сама...И что-то в этом есть во всём,
что заставляет и меня
губами трогать перед сном
галер далеких имена...2001
Copyright Игорь Колмаков, Леша Шестаковский, "Незнайка", 2001